Павел Анціпаў практыкуе літаратурны фрыстайл. Дзе ўсё нібыта пра сябе, а насамрэч пра космас. Ягоныя гарадскія апокрыфы і лірычныя сола на падкручаных нервах не паспяваюць надакучыць, бо аўтар спяшаецца жыць далей — і цягне чытача за сабой. Гэтым разам — у той Мінск, якога больш ужо ніколі не будзе.
Абібокі ў пошуках нірваны
+375333207491
Ёў, а я ў Іўі
УЕ ў яе еў!
Sent:
14-Apr-2010
10:31:27
У гитариста Сатриани есть композиция «A day on the beach» («День на пляже») с альбома «Flying In a Blue Dream». Мажорненькая, бесконфликтная, лёгкая, немного даже бессмысленная пьеса — чуточку ревера, чуточку фленджера, патока и мармелад. Я понимаю Чарнякевіча, когда он говорит, что в приличном обществе Джо Сатриани и Стива Вая поминать не комильфо. Мол, какие-то они эмоционально неразвитые, компьютерно примитивные, без широкой гаммы чувств, одна техника. Ага, техника — это правда, но к этой технике с детства у меня остался сантимент.
Каждый день после школы я разучивал эти простые эмоционально, но сложные в исполнении пьески. «A day on the beach» я повторял, чтоб совершенствовать технику двуручного, так сказать, тэппинга. Я лупил пальцами по грифу и представлял, как Сатриани сидит себе под солнышком на пляже во Флориде, смотрит на океан, на сёрферов, и никакое облачко не омрачает его сознание, сплошное благоденствие. Сам я в те суровые девяностые пляжи не посещал и не мог понять, что чувствует гитарист Сатриани.
А когда позже я всё-таки стал посещать пляжи, то эти посещения совсем не напоминали мне о пьесе Сатриани: пьяные разговоры под звуки волн, блевание у коктебельской стены или ожидание, пока Белов выплывет из моря, — всё это вряд ли могло вдохновить американского гитариста на такую воздушную композицию. И всё же ощущения «дня на пляже» в моей жизни время от времени случались. Например, 14 апреля 2010 года в Минске.
Когда в Минске тепло — это уже немножко как пляж. А если тепло вдруг в апреле — самом холодном белорусском месяце — то, как бы тебе ни было плохо, чувствуешь, что тебе всё-таки хорошо. Хочется выйти из дома и вперёд — вёрсты-улиц-взмахами-шагов-мну. 14 апреля был именно такой день: зима только разжала лапы, температура ночью поднялась до +6 +8, кратковременный дождь, утром уже было +10 +12, а днём обещали без осадков, ветер южный и +16 +18! Я даже не стал проверять и-мэйл, с чего начинал обычно каждое утро в своей комнате-кухне, я оделся и, не застёгивая куртки, пошёл, буквально, куда глаза глядят. Впрочем, тут без сюрпризов, глаза глядели в направлении улицы Кропоткина — по ней я добрался до Киселёва, а там мимо пивзавода дошёл до площади Победы. В истрепавшемся подземном переходе — павильон Союзпечати. Я полистал свежий номер «ЛіМа»: надеялся, там напечатали мой рассказ про жизнь в общаге литинститута. Это Ціхан Чарнякевіч, несмотря на наши разногласия по поводу Сатриани, попросил у меня текст. Чарнякевіч тогда заведовал в газете одной из рубрик. Я мигом выслал ему свою «Жизнь насекомых», где студентов-писателей травят в общаге дихлофосом, и теперь вот ждал-трепетал. Когда тебя печатают — это всегда маленький знак, что, может, и не зря ты всё затеял с этим писательством. Может, ещё получится. В том номере рассказ не вышел. Но я не расстроился. Так даже лучше, пусть напечатают, когда будет пасмурно. И поднимут мне настроение.
Я достал телефон и написал смску Жене Манцевич, типа, пошли гулять, чего дома-то сидеть? Женя с Вераснем через неделю уезжали в американское путешествие. За год они преодолеют 30 тысяч километров от Нью-Йорка до Аргентины, до самой южной её части, и водрузят табуретку на берегу Атлантического океана. Почему табуретку? У меня тоже возникал этот вопрос. С другой стороны, а почему бы и не табуретку? Не идти же без смысла на край света, цель — она всегда мотивирует. А что будет целью, каждый выбирает сам, я вон писателем стать хочу, кому это мешает?
Женина квартира была недалеко от площади Победы. Можно было подъехать на 18 автобусе, но я пошёл по Захарова пешком, заряжал свои солнечные батарейки. Возле литовского посольства свернул на Андреевскую. У двери подъезда набрал на домофоне номер.
Женя с Вераснем были напряжённые и тревожные. Не самое обычное для них состояние. Женя волновалась, что заболеет, она плохо спала ночью. Верасень тоже что-то мандражировал. Возможно, их пугала предстоящая поездка. Ну конечно пугала! Херачить с табуреткой автостопом на другой конец света. Я б ни за что на это не пошёл, мне и в Беларуси автостоп с трудом давался. Кстати, первую свою машину я стопанул пару лет назад как раз с Женей, а она — со мной. И день тот мне хорошо запомнился. Возможно, потому, что это тоже был «день на пляже».
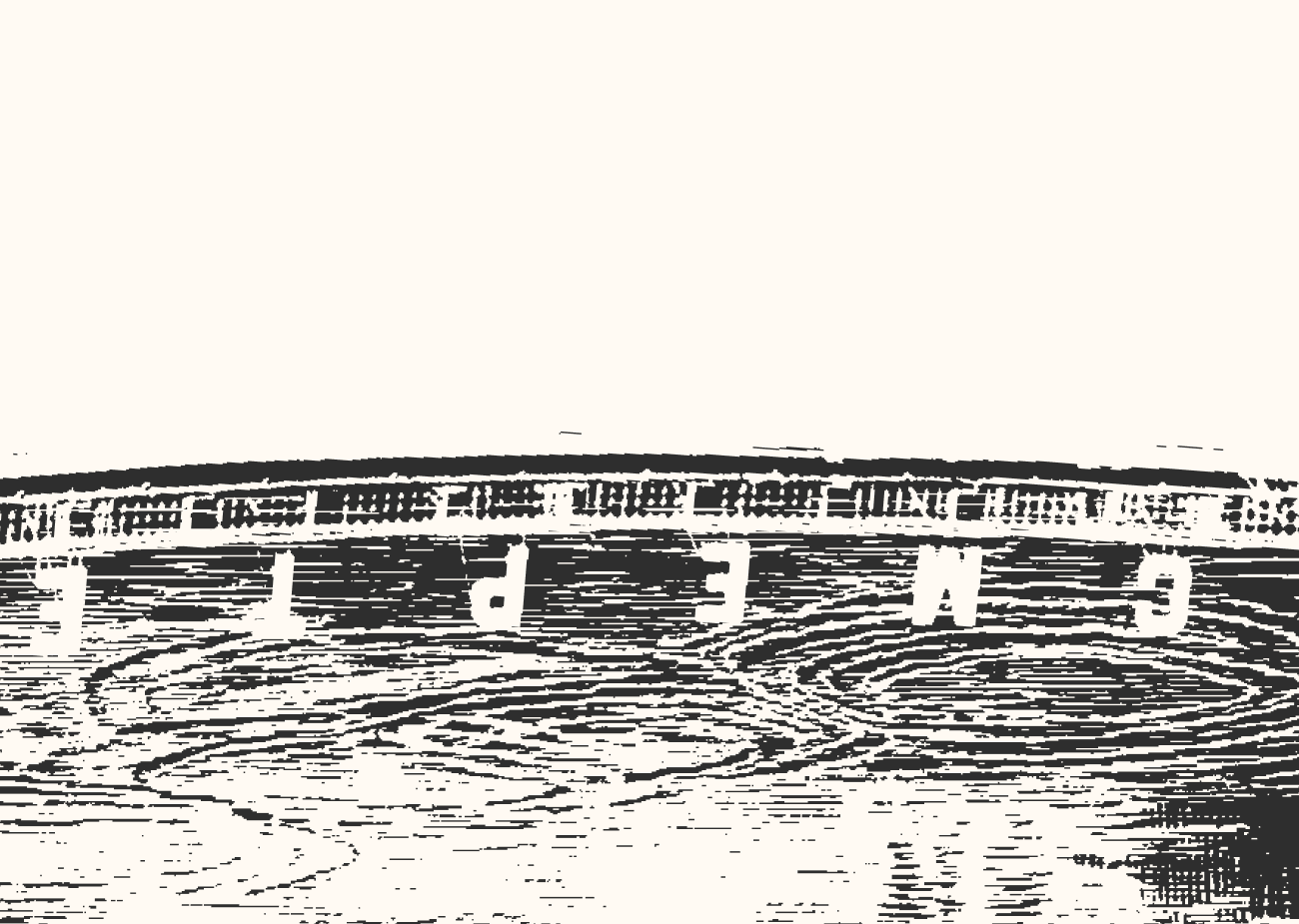
Женя узнала, что в Ивье мироточит икона. Туда пошли паломники. Тот, кто болен, просил здоровья, у кого в жизни что-то не заладилось, просил о том, чтоб заладилось. У Жени тогда что-то не ладилось, и она решила попробовать — хуже не будет. Женя позвала с собой Настю, у которой болела нога. Я тоже захотел поехать, не ради иконы, а из-за путешествия.
Мы встретились на автовокзале. «Гродналллида», — мычали вокруг частники-зазывалы, но у нас были билеты на маршрутку. Через два часа вышли у деревни Дуды, от которой до Ивья, куда не заезжают маршрутки, было 7 километров. В Дудах стоит двухсотлетний деревянный костёл, мы решили его осмотреть. В деревне было пусто, в тишине слышалось весеннее пение птиц. Жёлтый деревянный костёл высился на фоне бледно-голубого неба, как какой-то портал в наше путешествие. Из костёла вышел ксёндз и запер за собой высокие двери. Он подошёл к нам, спросил откуда мы, что нас сюда привело и т.п., — обычные в таком случае вопросы. Ксёндз говорил по-белорусски, Женя с Настей ему по-белорусски же отвечали, а я просто кивал головой и офигевал: надо же, живой язык, что ли? Почему я раньше об этом не знал? Только лет через десять я съезжу под Белосток в поисках бабушкиной метрики, и там, под Белостоком, мне повезёт: я отыщу бабушкиного соседа по деревне, и, к моему удивлению, буду разговаривать с ним по-белорусски. И когда я буду с ним разговаривать, вспомню детство и поездки к другой бабушке на лето в Кричев. После них я возвращался в Минск гэкаюшчым и чэкаюшчым, в этом мне виделся особый шик. От жа ж: мая радзіма — Беларусь, ад Беластока да Крычава. А я по-русски говорю, вот хуйня.
Мы попрощались с ксендзом, сфотографировали костёл и отправились в Ивье, куда через лес вела прямая-прямая дорога без машин. Было вербное воскресенье, а значит, расцветала верба. Она росла прямо у дороги, и мы подошли потрогать эти «котики» на ветках. Жене как раз позвонила мама. «Як справы, — пытае, — што робіце?» «Добра, — адказвае Жэня, — коцікі на вярбе глядзім». «Ужо коцікі», – здзіўляецца маці Жэні і Насты, у Вілейцы, адкуль яна тэлефануе яшчэ халодна. «Так, і вялікія, — адказвае Жэня, — як яйкі». Трэба дадаць, што вербная нядзеля ў гэтым годзе супала з 1 красавіка. Мы смяемся з Жэнінага жарту, які нікога не абражае. Помню Хаданович говорил, типа, видно, что Манцевичи с родителями по-русски говорят. Ага, по-русски, в Ивье бы тебя, Хаданович.
Настина нога разболелась ещё больше, она подобрала у дороги палку и шла, опираясь на этот посох, живописно, как пилигрим. Втроём мы сочинили скороговорку про Ивье: «Ёў, а я ў Іўі УЕ ў яе еў» и всю дорогу её разучивали. УЕ — это условные единицы, русизм. Перед самым Ивьем нашу троицу обогнал расхристанный бородатый чувак, похожий на Иисус Христос Суперзвезда. Он куда-то торопился, что-то бормотал, вдруг свернул с дороги к одиноко растущей сосне, стал на колени, раскинул руки и упал прям ниц. Мы переглянулись и пошли дальше — впереди Настя с палочкой, а за ней мы с Женей, солнце светит, птички поют.
Икона мироточила не в церкви, а в одном из частных домов, из которых, в принципе, всё Ивье и состоит. Мы прошли через палисадник, дверь в дом была открыта, нас провели в комнату, пропахшую церковным маслом. Атмосфера была, как в часовне — горели свечи, было душновато из-за закрытых окон, а также немного тревожно. Женщина в платке протирала икону ваткой, но на поверхности всё равно образовывались мелкие капли. Я смотрел на это с опаской и недоверием. Женщина обернулась к нам, и её внимание сразу же привлекла Настя, потому что стояла с палочкой. «Иди сюда, деточка, что у тебя болит?» «Нога», — растерявшись от неожиданного сочувствия, ответила Настя. «Ой, ножка болит, садись, деточка, разувайся, снимай носок. Возьми ватку, приложи». Всё произошло так внезапно, что мы опомниться не успели, а Настя уже сидела и прикладывала к ноге вату, которой женщина до того протирала мироточащую икону. «Ну как, — спрашивает женщина, — а сейчас болит?» Я внутри съёживаюсь: как неловко, думаю, что теперь Насте делать — врать? Но Настя поднимает голову, удивлённо смотрит вокруг и произносит: «Не болит».
«Как? Это? Возможно?» — пульсирует у меня в голове. Не путешествие, а сплошное откровение. Белорусский язык существует. Бог — есть. Нет, это уже слишком.
За калиткой мы с Женей перебиваем друг друга. «Настя, как это не болит? Совсем? Точно? Ты уверена? Ты шутишь? Это первое апреля, да?» «Вообще не шучу», — отвечает Настя и даже выбрасывает палку. С одной стороны мы поражены, а с другой — мы почему-то не можем сдержать смех. Пока мы идём к центру города, я думаю, что теперь мне придётся пересмотреть многие вещи, в которых я был уверен. Мне не хочется этого делать, я боюсь, и вскоре Настя говорит, что нога опять заболела. «Слава богу», — говорим мы с Женей. Если бог и существует, то он не лишён чувства юмора.
Мы зашли пообедать в ресторан «Весна» на центральной площади Ивья. Зал был пуст, мы были единственными посетителями, и всё равно какое-то время пришлось ждать официантку. В то, что в ресторане могут быть такие ничтожные цены, верилось ещё меньше, чем в чудесное Настино исцеление. В меню нас заинтересовал «гарнир сложный». Мы спросили у официантки, что это такое? «Пюре», — нехотя ответила она. А чем это отличается от пюре, которое идёт пунктом ранее, поинтересовались мы? То просто пюре, а к этому положат ложку зелёного горошка. От сложно — горошек положить, — веселимся мы, официантка смотрит на нас, как на дурачков.
Женя где-то раздобыла местную районку, и в ожидании «гарнира сложного», мы читали рубрику объявлений: «Продам лошадь, куплю скутер».
После обеда мы пошли к Гродненской трассе, решили совершить первый в своей жизни автостоп. Новичкам, как говорится, везёт, и перед нами остановилась первая же машина. Это был микроавтобус, который вёз в Минск работниц Берёзовского стеклозавода «Нёман». Водитель, правда, назвал цену. Мы переглянулись и решили не спорить — для первого автостопа сгодится. Через полтора часа мы были в Минске.
Что же до иконы, то могу сказать, что Настина нога со временем полностью прошла и Женина проблема тоже как-то разрулилась. А сыграло ли в этом какую-то роль наше «паломничество», не так уж и важно.
Итак, Женя с Вераснем готовились к путешествию и что-то — возможно само путешествие — их сильно тревожило. Обычно бывает наоборот — я напряжён, а Верасень развлекает, но тут мы поменялись местами. От прогулки под солнцем у меня появились силы, и я представил, что я Верасень, начал рассказывать весёлые истории, отпускать шутки, и Женю с Вераснем довольно быстро отпустило.
Женя рассказала, как они съездили в пустующий полузаброшенный дом её дедушки с бабушкой в деревню Радков. Дом где-то между Бобруйском и Мозырем вдали от автобусных остановок. Она показала фотки. И хата, и окрестности выглядели довольно таинственно и, я бы сказал, маняще. Мы сошлись на мнении, что хотели бы там жить, ну его, этот Минск. Мы договорились, что после их возвращения из Америки так и сделаем, – эти судьбоносные решения давались нам тогда очень легко, тем более, что не требовали мгновенного исполнения. Ничего тогда не казалось более простым, чем покупка и ремонт старого дома в деревне, остальные варианты жизни были ещё сложней.
Верасень перевёл разговор в психоделическую плоскость. «Недавно, — говорит, — проснулся, но мне показалось, будто я не проснулся». «Ну да, ну да, — недоверчиво сказал я, — и как ты это понял?» «Я видел будущее. Не то что видел — чувствовал. Вот я шёл по улице и понимал: сейчас из-за угла выйдет женщина, обязательно в красном плаще! И она выходит — пиздец!» Да уж, думаю, пиздец. «А потом я понял одну важную вещь, и всё прошло, — продолжает Верасень». — «Что ещё за вещь?» — «Всё хочет стать шаром» — «В смысле?» — «Ну всё окружающее стремится стать шаром. Люди тоже. Вообще все живые и неживые существа хотят стать шаром». — «С чего ты взял?» — «Ну а чем ещё?»
Мы замолчали. Странным образом, эта идея, действительно успокаивала. Раз всё стремится стать шаром, то мир не так уж и плох.
У Верасня в то время были длинные до плеч волосы, однако перед поездкой он для удобства решил коротко постричься, стать, так сказать, более шаром. Стрижка была назначена на 15 часов, парикмахерша принимала в районе площади Победы. Мы как раз успевали зайти на «Еврорадио», где Юля Слуцкая обещала дать Жене диктофон, чтоб та из путешествия могла делать экзотические репортажи.
Это был период, когда «Еврорадио» разрешили работать в Минске. Редакция сняла офис между улицей Маркса и проспектом на обрезке старой улицы, которая, если верить старым картам, до войны называлась Урицкого, а теперь никак не называлась и была закупорена ампирными домами проспекта. Идёшь по ней и чувствуешь, вроде бы улица — довоенные дома по бокам (остовы, конечно, а не дома, внутри-то всё в войну выпотрошено — и бетонные перекрытия вместо прежних деревянных, бетонные марши лестниц вместо довоенных каких-нибудь чугунных), а выходишь через арку на проспект — и уже кажется, что из подворотни вышел. Униженная такая улица — обрубок.
Женя пошла внутрь, а мы с Вераснем сели во дворе на детские качели и ну зубоскалить про «Еврорадио». У обоих от работы там осталось сложное впечатление, было приятно поделиться схожими мыслями. Мимо нас с прессухи возвращалась Настя Манцевич, она всё ещё тянула лямку на радио и торопилась сделать рэп — так мы называли репортажи. Настя была озабоченная и подавленная. Это так контрастировало с солнечным днём и нашим весёлым и злобным настроением, что я не удержался и неудачно пошутил: типа, расслабься, Настя, смотри какая классная погода, подождёт твой репортаж, не так он и важен. Это было слишком, Настя ответила так резко и так зло, что я весь внутренне сжался. Не надо было ей ничего советовать. А Настя развернулась и пошла в офис. У неё была короткая стрижка, под которой виднелась бледная кожа головы. «Надо освободить Настю с этой галеры, — думал я, — обязательно надо». Я тогда хотел всех освобождать, мне казалось, я обладаю незамутнённым взглядом и знаю, что нужно именно этому человеку, а потому — должен «помогать».
Вернулась Женя. Мы покинули униженную закупоренную улицу без названия — через арку на проспект, повернули направо и пошли к «Победе». Мимо нас ездили машины и большие зелёные автобусы номер «100», что несколько лет назад заменили троллейбусы номер «2», в которых по молодости ещё Некляев ездил с газировкой и без. В одной из «соток» ехал Рыжков. Он просто так ехал, без всякой причины, не знал, куда деть свободное время. Он увидел нас, идущих по проспекту, и вышел на ближайшей остановке. А мы идём мимо и замечаем Рыжкова. «Что, Виталь, автобус ждёшь?» — спрашиваем. «Нет — вас!» — отвечает. И вот нас уже четверо.
Решено было пообедать. «Праздник, который всегда с тобой» начинается главой «Славное кафе на площади Сен-Мишель». Но то Париж. А в Минске в районе площади Победы я знал славный буфет на заводе «Горизонт». Его мне показывала Катя Крыжановская, когда работала на «Белорусском радио» в иностранной редакции. Буфет был отделан деревом ещё в восьмидесятые, цены были невысоки. Я был суперголоден, съел куриную ножку, овощной салат, чай. Но не наелся и взял ещё салат из морской капусты. Это было ровно столько, сколько нужно.
После обеда мы пошли в парк к Свислочи. Среди деревьев Рыжков заметил голубя со связанными лапами. Передвигался он еле-еле. Верасень решил его освободить — надо было словить голубя курткой и отвязать верёвку. Вот Верасень снимает куртку и подкрадывается. Раз — куртка летит на землю, а голубь летит на небо. Летал он лучше, чем ходил.
Мы спустились к бетонной беседке и смотрели на блики масляной Свислочи. Верасень фотографировал Рыжкова на плёночный «Агат». Беседка эта имеет выход к воде, как если бы кто-то захотел искупаться, то из этой беседки он мог поплыть. Тут к ступенькам, которые опускались в воду, подплыла маленькая рыба, высунула усатую голову из воды и стала дышать — сом. Я и не знал, что в такой грязной воде могут жить рыбы. Сом казался полуживым. Рыжков нагнулся и без труда взял рыбу руками, поднял, но сразу бросил обратно в воду. «Мягкий», — только и сказал Рыжков.
Верасня постригли очень коротко. Было непривычно, как будто в жизни наступил новый этап. Рыжков предложил сходить на мастер-класс Алеся Разанава, который намечался тут неподалёку в подвальной мастерской одного скульптора. Жене и Верасню надо было собирать рюкзаки. А я — мог.
Разанаў не выглядел здоровым, неестественно подрагивал и прочищал горло громким «кгм», но когда заговорил, то всё это перестало быть заметным. Было ощущение, что со мной говорит, не знаю, гора, небо, сама жизнь. Как диалоги Платона, как философские повести Вольтера, как King Crimson «Starless». Наводящие вопросы горе задавал Гера Бартош: «Вы — мастер, скажите нам, что читать?» — «Чытайце тое, на што адклікаецеся». — «А как писать?» — «Пішыце, як пішацца». — «Кого нам звать на мастер-классы?» — «Запрашайце ўсіх, хто піша». В конце вечера Разанаў прочёл несколько стихотворений. Все они были написаны будто лично для меня, их не надо было анализировать, они проникали в восприятие в обход сознания.
А шлях раўнюткі, быццам лісцік,
ляці —
каб вецер у вушах!..
Як гэта лёгка памыліцца
і па чужых
пайсці шляхах.
Няхай яны імкнуць, як стрэлы,
няхай шырокія яны! —
Стаю адзін.
У небе —
дрэвы
і жураўліныя кліны.
Лісты апалыя на стрэсе…
Але чакай,
няўмольны час:
я маю права
ўсё закрэсліць
і потым
нанава пачаць.
Да, точно про меня. Похер, чем я раньше занимался, могу передумать, начну с нуля. Имею право.
Во время стихов в мастерскую тихо зашла Катя Зыкова. О, обрадовался я, вот сейчас втроём напьёмся! Но Рыжков шёл на свидание, а Катя тоже не могла задержаться. Я провожал её до метро, но когда оказались у перехода на Якуба Коласа, то поняли, что не наговорились. Вечер был тёплый, темы были важные и личные, и мы продлили свой путь на одну станцию метро. Потом ещё на одну, пока наконец не дошли до Катиного дома.
Попрощавшись с Катей, в темноте я углубился в район хрущёвок на Волгоградской и вышел к остановке. Троллейбус довёз меня до площади Бангалор, откуда я через ночной парк добрался домой. Я загрузил компьютер, открыл почту. Писем не было, я лёг спать.
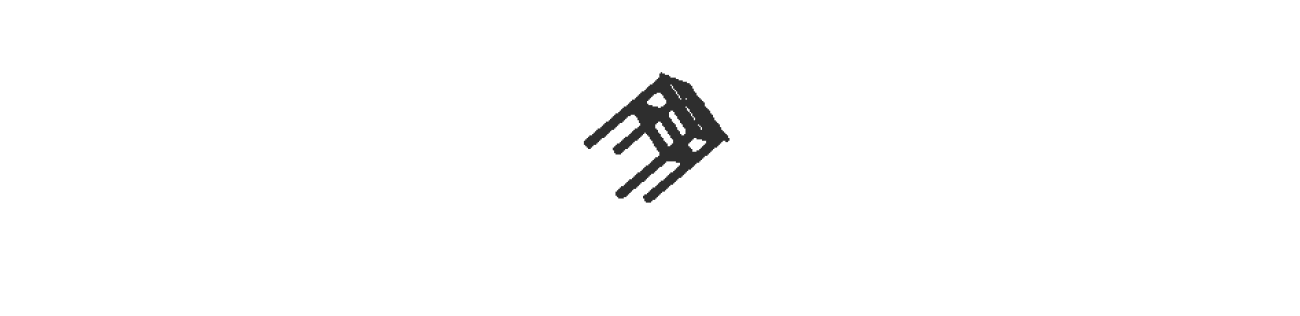
Павел Анціпаў. Пісьменнік, аўтар раманаў “Верхом на звезде” (пра Менск) і “Краткая история премии Г.” (пра працу ў НДА).
