Рытм. Сюжэт. Агучка. І фінальныя тытры са спісам тых, хто адбыўся раней за цябе. Юля Шатун робіць амаль немагчымае: сінема як літаратуру, рух словаў як фільм. Тут усё ўпершыню. І ўсё ў апошні раз. Як ты. Як я.
Мертвые ночи, покойные завтраки
На вокзале в Калинковичах я захожу в вагон ночного поезда до Минска и иду вдоль неподвижных тел, лежащих под белыми простынями. Я нахожу свое место, сажусь напротив одного из спящих и какое-то время разглядываю его, прежде чем тоже лечь. Мне кажется, что спящие похожи на мертвых. И, если честно, мне страшно ложиться рядом с ними спать. Вдруг кто-то проснется, когда в глаза попадет яркий свет от фонаря на какой-нибудь станции, будет смотреть на меня и тоже подумает, что спящие похожи на мертвых.
Я не люблю ночевать в одной квартире с родственниками, которых не видела очень давно. Они были родными на старых фотографиях, а когда мы встретились, стали чужими. Днем нам хочется поскорее опять расстаться на десять лет, чтобы больше не водить друг друга по городу, больше не есть привезенные кем-то конфеты, больше не слушать истории о людях, которых почти забыли или не знали никогда.
Нам хочется в одиночестве утром позавтракать, дочитать книгу и наконец ни с кем не говорить. Но поезд еще не сегодня, вечером все расходятся по комнатам спать. Кому-то постелили в зале, и он просыпается ночью и тихо идет на кухню за водой, боясь заглянуть в одну из комнат, увидеть там мертво спящих и понять, что спит среди мертвецов. Наутро после ночи в чужой квартире, может показаться, что ты так и не смог уснуть. Ты прислушивался к звукам, всматривался в узорчатое стекло на двери, боялся увидеть кого-то в углу в темноте.
Спящих и мертвых больше чем живых, и они мешают мне спать. По ночам мертвые долго разговаривают со мной, и я не могу от них уйти. Так бывает некуда уйти от знакомого, который пришел ко мне в квартиру и долго не собирается домой, хотя уже почти перестали ходить автобусы. Мертвые знают, что днем я не выхожу на улицу и редко встречаю живых. Мертвые знают, что я проснусь и буду вспоминать, о чем мы говорили с ними ночью, вместо того, чтобы спать. Я буду заниматься своими дневными делами, но пользоваться их вилками и надевать их халат.

Мне становится страшно, когда наступает вечер. Я ложусь в кровать и, чтобы не думать о смерти, начинаю придумывать завтрак. Вспоминаю, есть ли у нас мука и где стоит стакан. Представляю, как достаю муку и она сразу же немного рассыпается. Ищу большую миску, смотрю в сушилке и в духовке, а она на подоконнике. Потом достаю из холодильника и нюхаю молоко, наливаю его немного в миску. И начинаю вспоминать, сколько у нас осталось яиц... Так каждую ночь я репетирую завтрак, пока не усну. А во сне возвращаюсь туда, где ждут меня с прошлой ночи мертвые. Мы идем с ними гулять по городу, мы проводим вместе целую ночь. И когда я просыпаюсь, мне приходится заново узнавать, что они все умерли, а я пока — нет.
Утром мы с В. едим придуманный завтрак, и я снова не рассказываю, зачем придумываю все завтраки ночью. Утром я меньше всего боюсь смерти, утром еще можно спокойно пожить. Но иногда почти сразу после завтрака звонит кто-то из родственников, я смотрю на телефон и не сразу отвечаю на звонок. Думаю, кто мог умереть, если они звонят мне с утра. В этот раз звонит мама и просит съездить на Северное кладбище. На Северном кладбище дядька Юлик лежит уже с две тысячи пятого года, а его жена не может ходить. У него скоро день рождения и день смерти, и между двумя этими днями нужно его навестить — так просит жена, которая уже не может ходить. А я могу. Те, кто могут еще ходить, идут на кладбища вместо тех, кто не может.
У меня никогда не было своих мертвых. Свои мертвые — это те, за чьи могилы я несу ответственность. Эти мертвые ждут именно меня на Радуницу, Пасху, день рождения и день смерти. И я не стою вдалеке и не разглядываю другие надгробия, пока мама и бабушка вырывают траву, а беру из дома тряпочку и заезжаю по дороге за цветами. Я ничего не знаю о дядьке Юлике, кроме того, что он пил. Но пили у нас в семье все мужчины, поэтому я все еще ничего не знаю о нем. Юлик умер, когда мне было двенадцать лет. Я помню, как он сидел на скамейке возле дома в деревне, где раньше жила его мать, которая тоже умерла потом, уже после него. Но, может быть, я этого и не помню, а просто видела на фотографии. И вот теперь я самый близкий для него человек, его единственный человек, я выбираю для него цветы.
В цветочные магазины люди ходят в очень хорошие и очень плохие дни. В цветочном на Немиге, недалеко от дома, где я живу, я покупала цветы только перед тем, как поехать на кладбище, — только перед тем, как отнести их тому, кто умер. Я не люблю цветочные магазины и почти никогда не дарю цветы на день рождения. Иногда мне дарили цветы, и несколько дней я смотрела, как они цветут, а потом еще долгие недели они вяли, высыхали, сгибались, опадали, напоминая о чем-то тоскливом. Мне кажется, срезанные цветы нужно дарить только мертвым, цветы будут высыхать вместе с ними в могилах. Не нужно приносить им пластмассовые цветы. Даже пластмассовые цветы более вечны, чем люди.
В каждом новом городе я ищу на карте кофейню, в этот раз я ищу кофейню и цветочный магазин. Иду по новому городу, как будто снова приехала просто погулять. Завтракаю в кофейне, ем с аппетитом кашу и медленно пью кофе, доедаю чайной ложкой пенку и пойду сейчас в сторону центра по улице Советской мимо Ленина, буду смотреть на разноцветные отремонтированные дома. И только в цветочном магазине, который в этом же доме с другой стороны, вспоминаю, что покойникам приносят четное количество цветов.
Продавщица цветов разговаривает с таксистом, это его машина стоит там на дороге у магазина. Наверное, он часто заезжает с ней поговорить. Мужчина и женщина разговаривают, и между ними так мягко течет это теплое летнее время, что мне не хочется их прерывать. И я знаю, что когда попрошу темно-красные розы, продавщица спросит, сколько мне нужно, и я скажу «две» или скажу «четыре». Тогда у нее изменится лицо, и она будет думать о том, кто умер у меня, какому мертвому я несу такие живые цветы. Поэтому я прошу три веточки самых темных алых роз — на этих ветках много бутонов, которые никто не успеет посчитать. Продавщица предлагает обвязать букет белой лентой, я спрашиваю, есть ли что-нибудь темное, она перебирает разноцветную оберточную бумагу, я прошу еще потемнее. «Для мужчины?» — спрашивает она. И я несу мертвому другу красные цветы. Я иду по городу, будто снова приехала просто гулять.
У входа в ритуальный зал много знакомых, и я не знаю, что буду им говорить. Наверное, я бы хотела сказать: «Представляете, мы все тоже умрем». Но подхожу и молча киваю как бы всем сразу, и у кого-то, кто оказался ближе, спрашиваю: «А вы на чем приехали?». Они мне: «На машине». Я отвечаю: «А я на поезде», — и дальше молча разглядываю красные розы у себя в руке. Понимаю, что никому до этого дня не дарила красные розы.
Красные розы — самые пошлые цветы. В смерти тоже есть что-то непристойное, особенно, если она внезапна, и если умирают молодые, если она случайна и трагична. Видеть пошлое или непристойное неловко, поэтому мне неловко и от самой смерти, и всех обрядов, с которыми мертвых закапывают в землю или сжигают. Если слушать речи, которые говорят перед гробом, то может показаться, что умирают только хорошие люди, а плохие, пока не исправятся, остаются жить. И на похоронах все они чувствуют, что делают что-то странное и неестественное, от чего мертвому было бы тоже неловко. Людям становится неудобно, когда они встречают на улице смерть. Когда они встречают плачущих женщин с черными повязками на волосах, люди опускают глаза и ускоряют шаг.
Я смотрю на человека в гробу: его собираются закопать в землю, пока он, кажется, спит и придумывает себе завтрак. Заметив неопытность собравшихся, какая-то женщина начинает подсказывать, когда закрывать крышку, куда класть цветы и как опускать гроб. «Я мужа вчера хоронила», — как бы объясняя, говорит она. И все смотрят на совсем еще не старую мать, на это ее немое представление. Она не плачет, и все думают, что лучше бы она плакала. В своей ярко-желтой курточке среди темных фигур она похожа на маленькую желтую птичку, желтую иволгу.

Перед тем, как гроб закроют, мать склоняется над ним и целует свою дочь, гладит ее руку, она не плачет, а улыбается. Дочь спала в колыбели, завернутая в светлые с вышивкой по краям ткани, а мать гладила ее мягкие маленькие теплые руки. И даже спящий младенец только что из роддома в белой шапочке с кружевом был похож на наряженного мертвеца в гробу. Так и сейчас спит ее дочь, как спала в колыбели, только руки холодные. И мать склоняется все ниже, будто птица над гнездом, пытается дотянуться до дочери, чтобы поцеловать. Все смотрят на нее в тишине и думают, что она может упасть прямо в гроб.
Для того, кто потерял любимого, кто плачет и кричит, день похорон проходит в опьянении этим горем, он чувствует себя естественно в своей скорби, как и много дней после. Скорее, жизнь вне траура может казаться ему ненастоящей, как будто он смотрит на нее в кино. Для тех, кто любил покойника на расстоянии — так будто его и не было никогда на самом деле, кто оказался на похоронах, потому что не мог не пойти, этот день длится долго и мучительно. Целый день им нужно быть в трауре, остановить свою жизнь, видеть смерть и думать о том, что каждый из них будет лежать в гробу, а остальные будут хотеть быстрее уйти, чтобы еще успеть пожить.
Я возвращаюсь по проспекту-позвоночнику города к своему дому и думаю, что мне нравится жить на Немиге, в этой низине, рядом с рекой, где находят утопленников, где топтали людей, где виден холм, на котором смертники ждут своей казни. Они не знают точного дня, они только знают, что, скорее всего, скоро умрут. И когда я много дней не выхожу из дома, а потом выглядываю на балкон и удивляюсь тому, как пахнет воздух, я становлюсь почти как они, осужденные на казнь, только у меня, в теории, больше времени. И я не хочу наказывать убийц смертью, потому что это значит, что мы все осуждены. И не хочу жить в новых районах, где играют дети. Я хочу жить в доме, где живут старики, рядом с домом, где кто-то смертельно болен.
И в один из дней я прохожу мимо этого длинного дома, он впадает в Немигу, почти впадает в метро «Немига», и вижу цветы около подъезда, их принесли тому, кто умер. Он болел и ждал смерти. Почти как те люди на холме. Возле этого дома ко мне подходит женщина и спрашивает, кому несут цветы, и я рассказываю ей. Женщина говорит, что это ее покупатель, что она тут фруктами летом торгует. И улыбается. «Больше не придет, наверное», — отвечаю ей. Почему-то добавляю «наверное», хотя знаю, что точно. Женщина уходит, и я решаю, что не буду покупать цветы и оставлять их у подъезда.
Когда я умру, я бы хотела, чтобы об этом никто не узнал. Я бы хотела, чтобы никто не пришел на мои похороны, никто не выбирал мне цветы, не смотрел, как плачут мои родные. Есть что-то двуличное в обычае ходить на похороны: приходить и смотреть, как кого-то закапывают в землю. Это как увидеть кого-то в ванной или найти чужие интимные фотографии — нагло разглядывать человека в момент его уязвимости, зная, что он вряд ли хочет, чтобы его увидели. На самом деле, когда кто-то из знакомых умирает, следующее чувство после грусти — это радость, что ты пока здесь, среди живых.

Поэтому пусть все узнают о моей смерти случайно и не будут собираться на кладбище, как на праздник, где встретят много знакомых, с которыми будут потом возвращаться домой и заезжать в кафе, и курить, и договариваться о встречах. Пусть они все узнают об этом через много лет, удивятся, возможно, и попробуют вспомнить, когда слышали обо мне что-то в последний раз, а потом продолжат говорить о своем. И не будет памятника, надписи и двух дат — никаких свидетельств смерти. Я не хочу, чтобы кто-то приходил ко мне на кладбище: в то место, где меня никогда не было.
Я бы хотела, чтобы кто-то пользовался моими вещами, носил мою одежду, жил в моем доме, как я ношу одежду мертвых, как я ношу их украшения, как я пользуюсь их посудой. Пусть кладбища зарастут травой, а мы будем приходить в квартиры и комнаты тех, кого уже нет, и сидеть в их креслах, и пить из их чашек, и читать их книги, и гулять по городу в их пальто.
По вечерам в мою кровать приходят мертвые. Они говорят, что мертвыми мы будем дольше, чем живыми. Поэтому, когда умирают мои друзья, на похоронах я плачу не по ним, а по себе и нам всем, по нашим последним встречам. Смотрю на своих любимых и вижу их лица на надгробиях, смотрю на себя и вижу смерть.
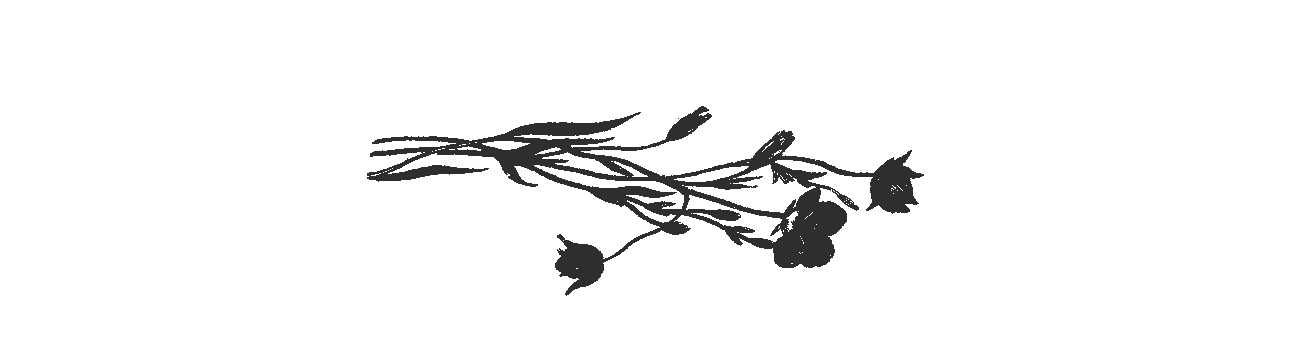
Юля Шатун. Займаецца кіно, фатаграфіяй, літаратурай. Любіць ездзіць у розныя гарады на цягніках, глядзець кіно і чытаць, шпацыраваць па горадзе, піць каву і піва. Ужо год жыве ў Познані.
