Айчынная готыка сёння — не карамельны Караткевіч, не шалёны Стывен Кінг і не цацачны Цім Бартан. Гэта штодзённы гвалт, рэгулярны адчай, чорныя мроі і безнадзейная любоў да асабістых пакутаў. Гэта плач перапёлкі над усенароднай багнай. Гэта Сяргей Шаматульскі і ягоныя расповеды пра самазабойчы парадайз.
Понарошку
Вышло так, что для Кати бабушка как бы не умерла. То есть она, конечно же, умерла, но, получается, понарошку. Всё лежала, лежала, а потом на минуту зажмурилась, и её увезли. Завесили тряпками зеркала, три дня суетились, а на четвёртый и вовсе выкинули диван, из-под выгнутого брюха которого вылез ослепший от вечной тьмы, пыльный прямоугольник. Он ещё ничего не знал, а Катя знала и, собирая закатившиеся пуговицы в ладонь, рассказывала про всё: и про постную кашу, и про обитый алым бархатом гроб, и про ничего не стоящие бессмысленные соболезнования, торчащие алюминиевыми колючками между закрученными в овал проволочными цветами.
— Твоя бабушка умерла.
Да, умерла, но умерла она понарошку.
Катя уже видела смерть. И смерть была некрасивой. Птичка, валяющаяся под столбом, окаменевшая магазинная рыбка, кошка, кем-то сбитая и выкинутая на обочину: зрачки рисинками смотрят вверх, пасть открыта и скалит нёбо двум мушкам, летающим над животиком, — это её душа. «Не бойся, милая, мы тебя похороним», — на пальцах от одуванчиков коричневые следы, холмик спрятан в саду, Катя будет сюда ходить, пока не забудет.
Ничего ведь не нужно помнить всегда. Будешь всё помнить — будешь болеть. Сморкаться и кашлять, не спать и отворачиваться от врача, тянущего к горлу свои холодные страшные руки, скованные резиновыми перчатками. Скажешь им «а-а-а», упрёшься в непроницаемые очки, «о-о-о» — съёжишься под выбеленными от ненависти сестринскими колпаками, сколотыми кокетливыми невидимками: «Схватят, если близко к ним подойти». Лучше посторониться. И не слушаться. И кричать. И, наступая на пятки, мять почти неношеные сандалики, высовывая язык, когда тебя не просили.
А от Кати всегда что-то требуют. Не стой, молчи, ешь, убери. Тряпка стирает пыльный прямоугольник — мутит воду.
Так вот ты, оказывается, какой.
Зря мы тебя разбудили.
И выкинули диван тоже зря. Где она теперь будет спать? И на чём Кате возиться с игрушками, и заводить поезда, и пускать под откос пластиковые составы, глядя как серый вагон врезается в нелюбимого плюшевого медведя? Это не бабушка его подарила. Его не жалко.
Потрёпанный, он валяется на дне картонного ящика и, подперев мордочку пирамидкой, о чём-то мечтает или, может быть, ждёт. Но нечего ждать. Ему не сделают ушко из набитого ватой капронового чулка, не смилуются, и даже не отправят жить к скучным соседским детям, считающимся во дворе чуть ли не беспризорниками, — потому что плохое, как правило, оставляют.
А вот любимую куклу отдали: «Ты Машеньку не жалеешь!» — и какая-то противная девочка, пахнущая цветочным мылом Лариса, разлив по чашечкам невидимый кипяток, сейчас, наверное, заплетает ей косы и, вот тетеря, совсем не догадывается, что если ударить Машеньку по пластмассовому животу — поломанному динамику, — то Машенька запоёт. Но Маша геройски молчит — не разговаривает с незнакомцами.
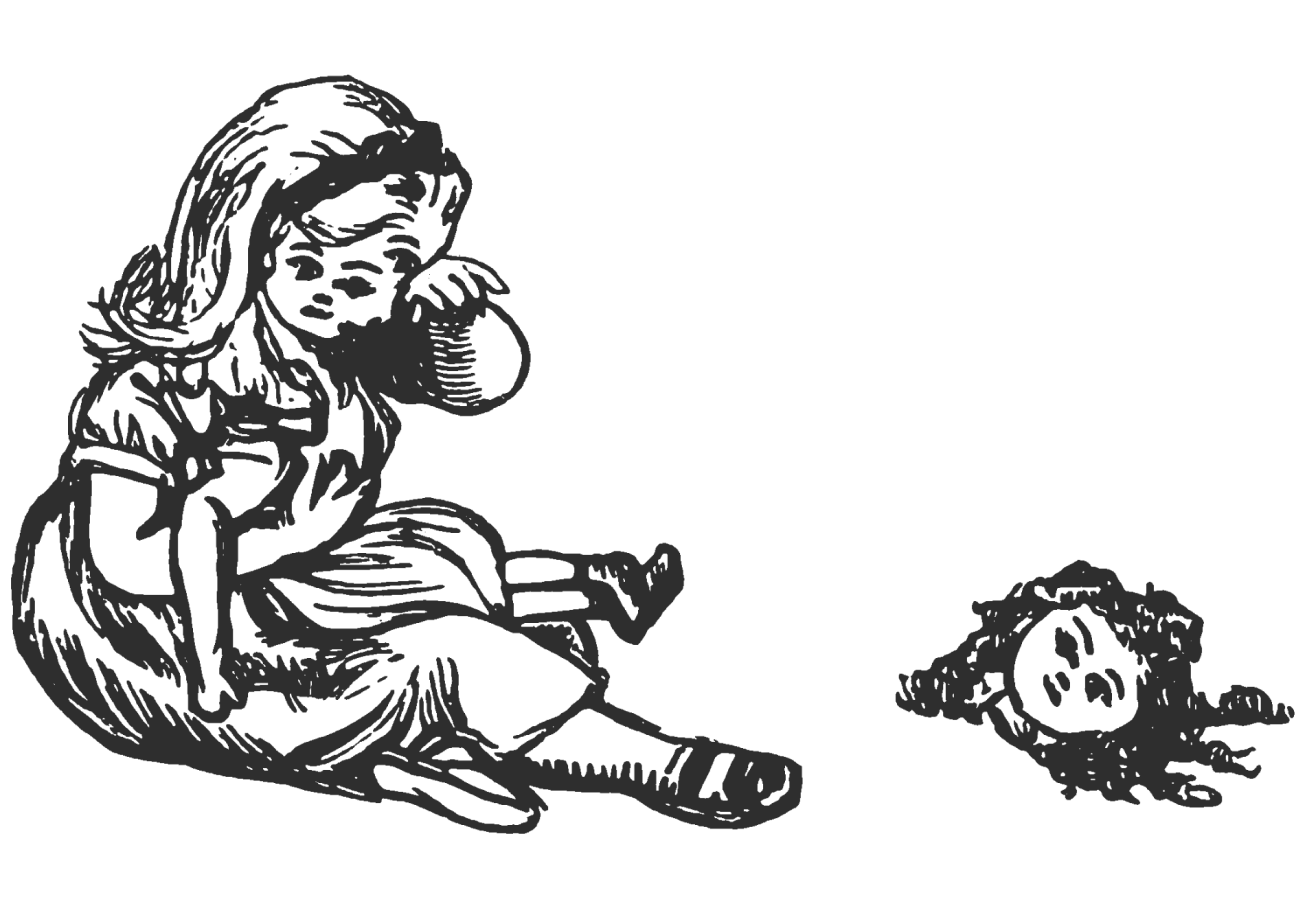
Хватит, больше Катя ничего никому не отдаст.
Хотя вот эти мозаики берите, там пропали кусочки неба, ещё вот блестящие бусины — прямоугольничьи глазки, — кажется, они ему не понадобятся. И книжки, да, эти нелепые книжки, наполненные невразумительными стишками: «Серый волк под горой. Не пускает нас домой!» — глупость какая-то, их тоже, пожалуйста, уносите.
Да-да, брысь-брысь. Волка нет и я дома!
И что вы на меня так уставились?
Не ругайтесь. Сейчас я всё соберу.
Катя чешет нос рукавом и ползает на коленях. Складывает в коробку порезанные картинки, вздыхает, мается. Выковыривает назойливую обиду, репейником прицепившуюся к колготкам, колется о крошечные шипы, дует губы: какие же взрослые, оказывается, дураки.
Не знают тайн, закрутились да никак не раскрутятся, ругаются и копошатся, а чего копошиться-то? Вот сядьте, сейчас я вам все расскажу: будешь стоять на месте, услышишь, как за домом течёт река, а в реке зелёные волосы — «Фу, тина!» — а у герани тягучий запах продленки, а у автобусной тёти праздничный рот: очень красный, — правда, нет зуба — она его спрятала в жёлтом компостере для билетиков — «Ужас!» — «Именно. Ты как-нибудь сама туда посмотри», — и если в тебя стреляют из палки, то нужно на минуту зажмуриться и обязательно умереть, но не взаправду, а так, понарошку:
«Это значит — ты проиграла».
Сухая трава щёткой колышется на ветру. Небо упало перевёрнутыми скользящими облаками, мальчики убежали во двор. Всё закончилось. Катя ещё немножечко полежит здесь мёртвой, потом горько расплачется, вспомнив о Маше, вытрет сопли, крикнет: «Кто водит?» — и, не дождавшись ответа, быстро пойдет домой.
Пластиковое ведро
Мир большой, страшный и заканчивается он ровно там, где заканчивается кончик указательного пальца твоей руки, а дальше — и нет его, дальше цветной картон бутафорских домиков вдалеке, случайно разлитая тушь — река, да небо с нарисованными на дне перевернутого пластикового ведра овалами-облаками. Вот, кажется, дотянись — пни, а за ними мрачная бесконечность. Или не бесконечность, а, наоборот, какое-нибудь нелепое китайское покрывало или дикий пчелиный мёд, разделённый рыжими сотами на маленькие ячейки: на ощупь липкий, на вкус горький, как таблетки, которые она принимала два раза в сутки, строго следуя назначенному предписанию.

Одну утром, другую — вечером, третью — при приступе, но это не каждый день.
А приступы были. Поднимался ветер, деревья скидывали целлофановую листву, птицы с криком взлетали вверх и бились полиэтиленовыми крыльями о живот чёрной тучи, застрявшей в покосившемся остове ржавой высоковольтки.
Приступы — это давление. Выпей таблетку.
Дальше её укладывали на кровать, буднично пристёгивали к приваренным подлокотникам, закрывали окно, по стёклам которого бежали серые хлорированные дорожки, и начинали считать, но на шестёрке она, как правило, засыпала.
«Уже легче?»
Сразу никогда не отвязывали, обычно следовало пройти хитрый тест: отгадать загадку или что-нибудь описать: – «Какая форма у яблока?» – «Круглая». – «Молодец». Или показывали картинку с пятном: «Это что?». А там, собственно, ничего – жирная клякса, размазанная по листу, но отвечать, она знала, следовало: «Это бабочка».
«А провода?» — «Нет проводов?»
«Отпускайте».
Эпидемия началась с череды, казалось, несвязанных самоубийств: люди прыгали с крыш домов и вышек сотовой связи. Она то и дело читала очередную скорбную новость про «нелепую трагическую кончину», но самоубийства происходили всё чаще. Заговорили про секту, про тлетворное влияние телефонов, токсичные испарения мусорного пятна, но пятно продолжало вонять, а люди, ломая статистические исследования, — прыгать. А прыгали без разбора: и мужчины, и женщины, и даже некоторые собаки, сбежавшие от зазевавшегося хозяина (собаки, кстати, предпочитали мосты). И через три месяца непрекращающегося хоровода смертей, паники да истерии, нашли этот вирус: маленький, скромный, он не поражал лёгкие, не покрывал тело глубокими язвами, не трогал, расшатанный бесконечными траурными процессиями иммунитет, а тихо сводил с ума, заставляя смиренно тянуться к очередной, не заколоченной властями многоэтажке.
По крайней мере, так говорили. А она верила в то, что ей говорят.
И носила маску, и мыла руки, и за два метра обходила странных прохожих, как, к примеру, того полоумного старичка, кричащего, что все мы находимся под вражеским колпаком, — воистину сумасшедшего. Какой ещё, к чёрту, колпак? Сверху — ведро, обычное пластиковое ведро, она давно его видела, видела и молчала, потому что знала, что бывает с теми, кто не молчит. Но потом на ведре стали проступать отяжелевшие бумажные облака, трещины; фрукты начали пахнуть бензином, а в реке крутились старые передачи центрального телевидения.
И её увезли. И давали таблетки. Две в день.
Раньше их здесь было немного — палата на человека. Это после начали уплотнять, а к концу года кровати ставили прямо на коридор. Кормили плохо — время такое, надо терпеть, – и приходилось терпеть, и ходить мыться по парам, стараясь не обращать внимания ни на чужую скованную наготу, ни на тонкий силуэт тазика, нарисованный кем-то на запотевшей глади кафельного квадратика.
И никто больше не мешал таращиться за окно, и считать диодные звезды, и портить глаза, разглядывая кудрявую нить накаливания, воткнутую посреди подвешенного на лебедках холодного солнца. «Вот-вот должны привезти вакцину», — всё повторял врач, расхаживая между обречёнными пациентами, но в его мутных очках, она видела, уже отражался пузырчатый целлофан, правда он его игнорировал.
Вакцину так и не привезли. Собственно, может её и не было никогда, как и не было хитрых вопросов. Какая форма у яблока? Круглая? Нет. Яблоко — это квадрат.
Когда разбежались все санитары, последний, ещё здоровый медбрат, высыпал оставшиеся таблетки на стол и ушёл в ночь. Она смотрела на его серый профиль, растворяющийся в наэлектризованной темноте, и, отмахнувшись от навязчивых проводов, пошла на крышу, где, встав на заснеженный парапет, прыгнула к манящему пластиковому ведру. И там действительно было что-то липкое. И оно действительно пахло как дикий пчелиный мёд.
Нерадостный дикий зверь
Нерадостный дикий зверь, сука, дрянь. Мальчики харкают в зарёванное лицо, обзываются: «Нина-свинина, Нина-свинина», — перекатывают языками между кривых зубов, кряхтят, сдёргивают штанишки. «У тебя трусы дырявые, трус-ы-ы дырявые». «Ну-ка давай покажи, не крутись!». «Мы тебя щас научим!».
Тычут пальцами в пухлый живот — так-так, — облизывают подбородок: «Куда пошла?» — «Ложись быстро!». Раздвигают ноги, смеются. «Тебе больно? Я говорю, тебе больно?» Держат за обе руки, залазят сверху, кричат на прибившуюся собаку:
«Дина, фу!» — бьют по лишайной морде, прогоняют из пустыря:
«Не мешай!»
Всё же страшное место — пустырь. Царство мальчиков. Девочки живут за стеной заброшенного завода, там, если идти направо от газовых труб, их дом, сложенный из ветоши и пластиковых бутылок замок с силикатными блоками, расставленными по кругу, умоляю, никому про это не говори.
Если узнают — растащат.
А собака? А что собака? Вон скулит. Не надо скулить.
«Тихо, Дина, ничего страшного не случилось».
Вот когда разбили голову Рите — это была беда. Нина целый вечер сматывала скотчем расколовшуюся черепушку — без толку. Жизнь вышла, смерть — пришла. Утром девочки закопали тельце около разрушенной проходной и воткнули в холмик маленький крестик, сделанный Тоней из припрятанных для такого случая зубочисток. Лиза ещё предлагала положить сверху засушенные цветы, но, посовещавшись, от цветов решили ради экономии отказаться — и так приходилось больше работать: с удвоенным рвением искать брошенную еду, чистить ямы, таскать в замок острые ветки и строить скреплённые слюнями глиняные заборы, готовясь к осени. Когда начнутся дожди, пустырь зальёт мутной водой, и на их завод явятся бесстыжие мальчики, чтобы мстить.
Они всегда по осени мстят.
И в прошлом году мстили, и в позапрошлом: мочились в чашки, ломали замаскированные ящиками проходы, писали на стенах искрящиеся матерные слова, выпавшие из жуткого мира взрослых и светящиеся тремя запретными буквами: — «Не вздумай произнести их вслух!» — «Что будет?» — «Оглохнешь!». Рита, на правах старожила, рассказывала, что один (самый бойкий) однажды даже выколол Дине глаз, однако каких-то особенностей с глазами у Дины не наблюдалось, отчего решили, что Рита врала, или глаз вырос — поговаривают, у собак такое бывает, — в любом случае, истины сейчас всё равно не узнать. А раскапывать холмик, чтобы поинтересоваться, лень. Призраков и без этого много. Взять хотя бы Тонину кошку Зою, разгуливающую по крышам (каждая её видала), а она ведь была мертва, и крестик имела свой собственный, и зарыли её глубоко.
Вообще, крестиков у проходной насчитывалось теперь три, и девочки знали, что когда крестиков станет пять, то хоронить будет некому и последней оставшейся в живых придется сломать их замок и убежать. Правда, куда бежать, точно никто не знал, но Лиза была уверена, что со временем станет понятно: «Можно в лес!». И, так как Тоне нравился лес, а Нина когда-то была там с бабушкой и запомнила, какие грибы брать нельзя, и что сыроежки отлично подходят для куриного супа, — то девочки радостно согласились. Даже поклялись на мизинчиках. Впрочем, мизинчики были только у Нины.

Нина в принципе была странная: любила жарить на прутике черный хлеб, или вдруг могла достать из кармана сахарный кубик, или съесть пахнущее канализацией сваренное яйцо, кем-то заблаговременно почищенное и закрученное в салфетку.
«Ведьма. Она ведьма!», — сделала вывод Лиза, пытаясь закрыть нос рукой.
«А ты видела, что она умеет садиться на корточки?»
«Нет...»
«Да!»
Тоня раскрыла от удивления рот и потрогала свои негнущиеся колени:
«Чудеса».
И таких чудес было много. К примеру, Нина немного понимала собачий язык (Дина с ней время от времени разговаривала), носила штаны, а ещё иногда без предупреждения пропадала — это особенно пугало покойную Зою, — появляясь на утро чистенькая и не желая что-то девочкам объяснять.
«Она ходит жрать, потому и толстуха».
«Фу! Лиза, некрасивое говоришь!»
Хотя о чём было им ещё говорить? Натаскавшись веток, они сидели около поломанных ящиков и сплетничали обо всех или придумывали истории, или рассуждали про Риту: не могла же она без дела лежать в земле, так не бывает, надо работать, и любая смерть — это, собственно, полезная смена деятельности. Как с опустевшим заводом — теперь он их дом. И Рита сейчас чей-то дом: и кто-то сейчас пьет чай веё набитом шариками животе — там у них комнаты.
«А расколовшееся головка?»
«А головка — это мансарда».
Обычно после услышанного, впечатлительная Тоня начинала рыдать, а Лиза злобно закатывала глаза: она не верила Нине и, в отличие от подруг, хотела жить долго, по крайне мере пока не построят забор. Но к августу стало понятно, что ничего у них не получится: глина не сохла, ветки лежали жиденькой кучей — мальчики её смогут переступить, — Тоня уже ревела без повода и в тайне шепталась с крестиками, уверенная, что никакого смысла готовиться к осени давно нет, и что все умрут, и, пока девочки по очереди лизали забор, причитала у холмиков, раскинув рыжие волосы по земле.
Там-то её первую и нашли — наступили на ноги, а кричавшую Лизу кинули в грязь, а Нину, как зверя, вытащили на пустырь. Раздели. Но никого не убили. Счастье. «Поэтому, Дина, всё в этом году сложилась у нас хорошо, кровь остановим, а вот что сломали Тонечке ноги — это проблема. Пластик без клея так просто не заживёт».

Сяргей Шаматульскі (1990) — беларускі пісьменнік і графічны дызайнер. Напісаў кнігу апавяданняў “Они”, вёў аўтарскую калонку ў часопісе “Маладосць”. Апавяданні публікаваліся ў часопісах “Макулатура”, “Паміж”, газетах “Літаратурная Беларусь”, “Літаратура і мастацтва”, зборніку “Вешчуны ідуць на Беларусь”. Тэксты і эсэ перакладзены на польскую, латвійскую і англійскую мовы. Фіналіст літаратурнай прэміі “Блакітны свін” і прэміі Анемпадыстава за лепшы кніжны дызайн.
