Калажная адукаванасць, рандомная свядомасць, фрагментарная ідэнтычнасць, цень ЕГУ, шоргат радзімы, слоўнік наскрозь... Новая генерацыя айчыннага пісьменства фармуецца насуперак усяму, што мы пра яе не/хочам ведаць Гэта до-мі-рэдызайн уласнай існасці без жорсткай залежнасці ад усіх легітымных сцэнароў беларускасці. Жыццё як хібы патэрнаў. Лёс як сляпы вакаліз прымроенай аўтаркі. Вершы як (з)мова. І ведаеце што? Магчыма, акурат так выглядае будучыня.
“...”
“Мне не хватило метели”, —
говорит сизокрылая женщина
из сорок вечной квартиры,
читая под дверью письмо:
“Балкон оккупирован птицами.
В лифте воняет рекой, молоком
и ромашками. Каждый день,
открывая почтовые ящики —
мы находим иконы и снег.
Если ночью мы снова услышим:
“ми-ре-ля-си-ми-ре” —
мы натравим на вас снегирей
и соседского мальчика Лёшу”.
“Как же мне сложно быть молоком”, —
говорит дальнозоркий мужчина
в хрустальном пальто с серебристой
подкладкой. Каждый декабрь
он мчится на санках в больницу
для добрых людей. Каждый осмотр,
вместо “Ш Б” — он смотрит,
как солнце, как осы, как просто
растопится сердце в субботу,
как мёд в молоке.
“Ещё был жив отец. И рыбьим жиром
пахло в комнате. Отец на подоконнике
решал кроссворд,
а мы с тобой катились
с горки: две ноты —
“ми” и “ре”, и до —
зубных врачей, бронхита,
дальнозоркости, “привет,
давай дружить” и “пропади
ты пропадом из моей жизни” —
отец подпрыгнул от восторга:
“А почему так просто? Бог”.
“Весной во сне совьем тебе гнездо”, —
пообещал мне дедушка. А ты —
в окне, спустя десятилетие,
поёшь: “ми-ре-
ля-си-
ми-до”.
“...”
“Есть одна музыкальная композиция,
где почитается судьба людей,
смахнувших с век любимого человека
снежинку. Теперь эти люди — метель.
“Теперь ты понимаешь, почему я
так и никогда к тебе не прикоснулась?”
Это были не струны, не скрипка,
ни, Господи, помилуй, — музыка.
Это я — почему-то — задумалась:
о чем говорили снежинки,
когда таяли — мы. Они говорили:
“есть одна музыкальная композиция...”
Вильма, Аля, Сон и Вишня —
катятся по городу на лыжах,
сдавая школьный норматив.
Я — “голая” — без шарфика,
и в куртке не застегнутой,
и некрасивой. Вокруг меня
всё стало синим. Голубели
рыбы на глазах. Воскресение-
синета. Бирюзовый календарь.
На дорогах, вместо соли,
посыпают голубику.
Дедушка у цирка кормит
птицу творогом. “Это не голубь.
Это — мой синь”. Синица Петровна
в прошлогоднем скворечнике
находит записку от Воробья:
“Потому что никто никуда не уходит.
Синева ты моя, синева”.
А всё, что угодно, могло нас
рассорить в этот нетёплый
“синь-тябрь”. Снег на балконе.
Колючая шапка. Твой кандидат
в президенты. Ты мог некрасиво
повесить скворечник. В обуви
снежной топтаться по спальне.
Ты мог мне присниться слепым
одноклассником. Ты детство
родителей. Дом бабушки
Мани. Темно-синий пейзаж
за окном электрички. Всё,
чего больше я никогда не увижу.
Память похожа на голубую тарелку
с золотистой каемочкой.
Голубая тарелка с золотистой каемочкой
похожа на Марс. Когда я говорю
“Марс”, я имею ввиду не планету —
собаку. Когда меня ещё не было
на свете — на свете был Марс.
Дедушка Марсу шептал о садах
и о детстве. Дедушка с Марсом
из леса привез новогоднюю ёлку.
Меня всё ещё нет, но я всё ещё —
помню, как пахнет метель,
навеки припавшая к векам.
Веко похоже на реку “Антоновку”,
где подо льдом — не рыбы —
три первых года
человеческой жизни,
проведенных в беспамятстве.
Меня все ещё нет, но я всё ещё —
слышу, как дедушка Марсу
шепчет про голубой
звездопад. И я загадала тогда:
“никогда не забыть”,
а что не забыть? —
я уже и не вспомню. С тех пор
всё стало мятным,
бирюзовым, голубым.

Куда улетают качели
“Ты веришь в чудеса?”
“В волнение?” Хрустальный
берег. Абрикосы. Паруса.
У меня под капюшоном —
сон отца, рододендрон
и клоуны. Письмо от облака
в рубашке: “пардон,
сегодня хочется
расплакаться…”.
А ты не помнишь,
где наш самокат?
Где алыча и где
прабабушка?
Где яма, ландыши,
“секрет”? Где мой отец?
“Он здесь”. Уснул
на летней кухне.
Он любит по утру
расплакаться под
Перголези (“Stabat Mater”).
Завтра, в парикмахерской,
он вспомнит детство:
шелест скатерти,
беседка, “хватит,
хватит на ветру сидеть,
ты кашляешь”. Ему
семнадцать маев,
восемь песен, три кота.
Весной спустя,
под абрикосами,
он поливал одно японское
стихотворение, как вдруг —
кричит ребенок: “папа,
а когда одиноко летают
качели — они улетают
куда? В японский сад?
Домой? В стихотворение?”
И акварелью на песке
немой отец и мой младенец —
напишут иероглифом: “ты где?”
“Я здесь”. Проснулась,
лежа в сквере самых
сложных слов.
Рододендроны,
парапеты, нет,
“не помню месяца
без поиска прохожих
с похожей родинкой
на левом сне”. Восток
и Север — только человек.
Когда в грудную клетку
падал снег и прилетали
птицы “я скучала (запятая)
занавес кавычек.
“...”
Мир пишет “снег” на мягком-чайном-серебристом.
Ты навестил меня в больнице
с пакетом желтых яблок,
и я призналась честно: я тебя не знаю,
как не знала десять лет назад,
когда мне школьным ластиком стирали память,
а ты сказал мне: “снег”.
А я сказала: “зачем ты мне
об этом говоришь?”, а ты ответил:
“Первый снег. Твой долгожданный
первый снег пошел”.
Я обернулась посмотреть в окно,
а ты — уже растаял. Откуда
на моем столе — пакеты
желтых яблок? И как мне
объяснить медсестрам:
“когда мне было очень жалко,
я представляла, что кормлю
его из банки — яблоками,
как черешней, как бабушка
меня кормила в детстве.
Его здесь нет. Но я его кормлю —
нездешностью. И смерти больше
нет”.
“Нет, есть”.
Нет. Нет.
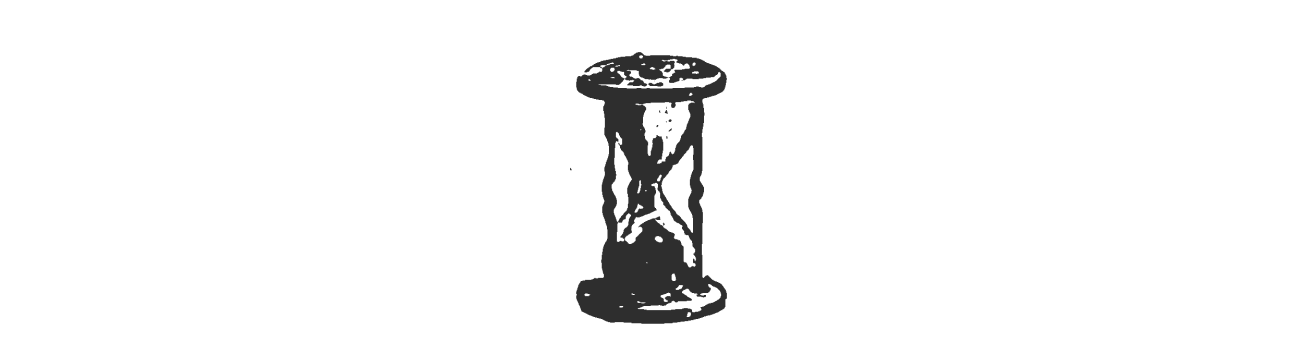
Ліяна Каханоўская, 23 гады. Нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве ў Вільні. Скончыла ЕГУ па спецыяльнасці “Еўрапейская спадчына”. Удзельнічала ў літаратурнай лабараторыі “Расцяжэнне”. Піша паэзію, казкі і эсэістыку.
