Парадак слоў набывае сэнс, калі шум пачуццяў ператвараецца ў структуру выказвання. Новыя галасы надыходзяць нібыта ніадкуль — і застаюцца, каб паразумецца з нашым дурдомам. Паламаны час гадуе шурпатых аўтараў. Трэ дазволіць ім адбыцца.
Фантомные боли
Я схожу с дороги сосновой, мховой и цветистой. Запахи леса остаются позади. Взбираюсь в гору, шаг — передо мною безграничные просторы буйных волн и синевы такой же глубины, что и расстояние до дна.
Балтийское море. И шум его, стирающий все звуки рядом. Гул водных потоков, что, торопясь, бегут к берегу, сносят друг друга, растворяясь в пену.
Я спускаюсь по песчаным дюнам цвета светлой кожи, нежной, такой хрупкой, что сквозь нее прорывается дикий сухоцвет. Не могу оторвать глаз, восторг наполняет меня. Хочу побежать вперёд, всё рассмотреть, потрогать, десятки раз пересыпать мягкий песок из ладони в ладонь.
Замечаю куст с красными ягодами и бросаюсь к нему.
— Шиповник! — восклицаю я уже рядом. Срываю несколько плодов. Пронзает мысль: «Я отвезу их маме, ей понравится», — и боль приходит лишь через минуту.
Никуда и ничего я не привезу.
Все квартиры, в которых я жила, находились в одном районе. Край города, который мы прозвали центром Вселенной. Букв девять и цифра «четыре» в конце.
Откуда-то издали можно услышать топот поездов, а по вечерам в коричневом небе виднеется желтоватое зарево.
Наступны прыпынак «Кальцавая дарога», далей — «Дыспетчарская станцыя Малінаўка чатыры. Канцавы».
МКАД.
Дымные головы ТЭЦ выглядывают из-за густой полосы сосен.
Край леса, песчаный карьер. Шумят не волны — гудят машины. Мы с бабушкой добрались сюда через черную трубу (в ней однажды сосиски нашли), но иногда четырёхполосное шоссе просто перебегали.
Я, маленькая, сажусь на большой камень почти у обрыва и смотрю на дом детства. Голубизной отливающий постсоветский коробок, подчёркнутый аллеей молодых берёз. Позади тоже деревья, которым всё нет конца, и где-то в глубине текут тонкие реки, блестят на солнце жёлтые поля кукурузы.
Момент этот пахнет зноем, от жара плывущими пейзажами, самым тёплым временем года.
«Бабочка» — произношу я. Бабушка отзывается.
Моя родина — бетонные рамы окон. Цветная плитка домов: грязно-розовая, голубая, синяя. Космических форм фигуры на детских площадках. Просторы улиц, которые с каждым годом всё уменьшаются, всё меркнут. И кусты, в которых я так любила прятаться, срезают с корнем. Рыжие качели с пластиковыми сидушками. Как научилась кататься на них, так больше и не отпускала металлические цепи.
Лето. Ливень.
Мы с Серёгой скидываем с балкона старые кассеты, пленочными тросами они опускаются в мокрые кусты. Вырезаем фишки из толстого картона, а на фоне по большому телевизору идут новые сезоны «Покемонов» (а может, и очередные серии «Спанч Боба»). Потом выбегаем во двор и бьём резиновыми тапками по лужам цвета какао. Как солнце выйдет, возьмем палки, будем драться на них, как рыцари.
Вечером прибегу домой. А там слепая, старенькая Тяпа врезается в стены. Собачка, которой никто уже не хочет состричь седые колтуны. А серая кошка, Мотя, восседает на раме открытых окон.
Брат уходит на сходку любителей Lineage 2. В зале с матершиной бабушка комментирует «Дом» — тоже «2».
А мама придёт домой только в десять часов вечера.
Как там говорят? Что имеем — не ценим, потерявши — плачем?
Хуйня какая-то.
В Тик-токе ругают романтизацию хрущёвок, а мне б хоть через щёлочку на родные места взглянуть. Да даже не букеты цветов полевых собрать, а побарахтаться в предлесной грязи весенней, растерзанной тракторами. «Доктора Дизеля» втащить в морозе вечернем, наощупь дойдя до дома, — я ведь знаю, что в любом состоянии, хоть глаз мне выколи, обойду все малиновские кварталы. Сквозь жужжание электростолбов, остановки немые, доберусь до него и улягусь в ванну отгонять опьяненье.
Отрочество.
Корочка драников золотая. Бабушкой приготовленных. «Я ем их в последний раз», — проносится в мыслях, когда я, стоя с тарелкой у окна, разглядываю детский сад, весь в пятнах осенних листьев.
Всё так и есть.
Вильнюс, я повзрослевший призрак. Тело камнем застывает, я прилипаю к земле, а мыслями блуждаю. Ничего не планирую, всё выжидая. И не замечаю, как темень раз за разом сменяет за окном лучистый свет солнца.
А пока не думаю о том, что скучаю, я убираю мелкие предметы со стола. Боюсь, что кошка сбросит, — а её всё нет. Чуждость комнат при свете люстры, шкаф этот рыжий, подкошенный, пищевой моли храм. Объединенная с туалетом заплесневевшая ванна.
Странно.
Ничего против убогости не имею, только бы она была моей.
Не замечаю я, как ноль сменился тройкой.
Привезите мне книгу, которую не хочу читать.
Настольную лампу. Пару ненужных серёжек. Давно исписанный блокнот. Фотографии, которые пылятся на полке.
Я старыми предметами заштопаю дыры в теле кровавые. Чайничком мёртвой бабушки.
Я в доме живу, в съёмной квартире.
Ничего не делаю тут, пусть даже сломалось что-то:
разбили стекло мы в дверце шкафа,
другую дверцу вбили внутрь кулака ударом.
Я съеду скоро. Через месяц, через два. Через год. Или пять.
Нужно ли дома срок пребывания продлять?
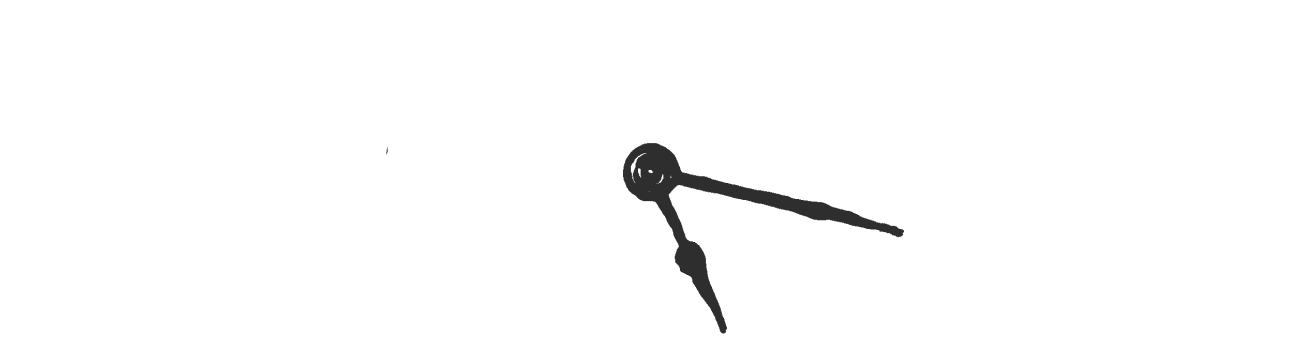
Марыя Дзербiчава, 24 гады. Летась скончыла ЕГУ па праграме “Медыя і камунікацыя”. Зараз працуе не па спецыяльнасці, шмат фатаграфуе і піша тэксты, прысвечаныя эміграцыі, экатрывожнасці, цялеснасці і асабістым перажыванням. Наведвала “Школу маладога пісьменніка”, прымала ўдзел у літаратурнай лабараторыі “Расцяжэнне” і майстэрні актывісцкага пісьма “Пиши, меняй”. Суарганізатарка віленскага фестывалю “Не вінаватая”. Апошнім часам спрабуе сябе ў паэзіі.
